- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
О профессиограмме юриста
В одном из юридических вузов занятия со студентами в первые дни их пребывания в институте начинаются с мозговых штурмов. Они пытаются ответить на три вопроса: Каким юрист должен быть? Что юрист должен знать? Что юрист должен уметь делать?
Удивительно, с какой легкостью отвечают студенты на первый вопрос. Они быстро набрасывают портрет “идеального” юриста -рыцаря без страха и упрека, фантастическое сочетание Джеймса Бонда и Павки Корчагина. Они в точности (часто дословно) воспроизводят формулу настоящего чекиста: “чистые руки, горячее сердце, холодная голова” – и наделяют этого “идеального” юриста всеми качествами доброго защитника, заступника и просто хорошего человека, так, как это делали безымянные авторы народных сказок, описывая положительного героя. Кто-то из студентов обязательно скажет: юрист должен быть профессионалом.
Так же легко дается первокурсникам ответ на второй вопрос: Законы! Конституцию! Систему государственных органов! Философию! Историю! Логику! Уголовное право! Гражданское право! Иностранные языки!.. Наконец, чье-то чувство юмора не выдерживает: Физкультуру!!! И всем становится ясно, что, в ответ на вопрос о знаниях цитируется учебный план, перечисляются его предметы. Первокурсники не разбираются в тонкостях составления учебного плана: какие курсы обязательны или рекомендованы в соответствии с государственным образовательным стандартом, какие включены по собственной традиции института, по желанию уважаемых и влиятельных профессоров или в угоду конъюнктуре, моде. Но все студенты уже заведомо согласились считать предписанный набор курсов описанием областей знаний, обязательных для юриста.
Самым трудным всегда оказывается третий вопрос. В обыденном сознании вопрос “‘Что он делает?” тесно связан с вопросом “Что он производит, каков результат его труда, в чем он выражен?”. Бизнесмен получает прибыль, врач лечит пациента, учитель обучает детей. Что делает юрист? В этот момент обнаруживается, что многие студенты, представляя, где может работать юрист и как он должен выглядеть, понятия не имеют, чем он занимается, т.е. чем им предстоит ежедневно заниматься в ближайшем будущем. Их представления основаны на кинематографических образах: обаятельные голливудские адвокаты и прокуроры весело общаются, красиво выступают в суде и много зарабатывают. А что скрывается за этим общением и выступлениями, за что юристу платят деньги? Студенты вспоминают некоторые подробности поведения юристов: задают вопросы, перечитывают законы, дают советы, обсуждают планы действий, составляют документы, ведут переговоры…
Так мы со студентами начинаем разговор о профессиональных навыках.
Для начала надо определить, что такое “юрист-профессионал”, кто такой юрист. Например, декан юридической школы одного из американских университетов Роско Паунд в 1953 г. так описал профессионализм: “занятие ученым искусством как публичным призванием в духе общественного служения”. Очевидно, что это очень широкое определение, подходящее для многих профессий, например врача или учителя.
Периодически предпринимаются попытки описать “идеальную модель” юриста-профессионала – составить так называемую профессиограмму. т.е. перечень знаний, навыков, ценностных установок или качеств, которыми должен обладать юрист. Ведь без этого очень трудно организовать эффективную систему профессионального образования, принять образовательный стандарт. Но, размышляя о возможности составления такой единой и полной модели, надо принимать во внимание, что построение профессиограммы требует глубоких и длительных исследований, а тем временем под влиянием общественных перемен меняется структура общества, система ценностей и отношений в нем. Следовательно, меняются и роль юриста, и требования к нему. Другая проблема: разнообразие направлений в юридической профессии, кажется, делает невозможным создание ”универсальной” модели, включающей все знания, навыки, качества судьи, прокурора, адвоката, нотариуса, юрисконсульта и т.д. Неизбежно в построенной модели будет проявляться общественное представление о какой-то одной юридической специальности, именно той, представители которой и воплощают образ “идеального юриста”. Для англосаксонской правовой системы таковым, скорее всего, будет образ адвоката, отстаивающего интересы своего клиента, в том числе клиента-государства. Для континентальной системы “идеальный юрист” – это. вероятно, судья, выносящий решение по делу.
Вообще обучение профессионализму сопровождается опасностью ложно понимаемой специализации, в частности, в праве -опасностью узкой отраслевой специализации. Мы сталкивались с вопросами студентов: “Зачем нам учиться консультировать клиента по уголовному делу, если мы хотим работать юристами в коммерческой фирме, а не адвокатами?” Стоит задуматься: а разве юрисконсульт не занимается ежедневным консультированием руководителя фирмы, менеджеров, сотрудников, партнеров? А разве мала вероятность обращения к нему за помощью со стороны руководителя, сотрудников фирмы по уголовным делам, в первую очередь связанным с основной деятельностью фирмы? В реальной жизни, особенно в коммерческой сфере, возникающие проблемы имеют, как правило, комплексный характер.
Если подойти к профессиограмме с точки зрения деятельности юриста, направленной на решение задач, которые ставит перед ним общество, то можно предложить следующую формулировку: юрист “творит” справедливость, помогая разрешать социальные проблемы с помощью права. Эта формулировка миссии может показаться кому-то слишком абстрактной, а кому-то слишком пафосной. но она позволяет определить рабочие инструменты, необходимые для достижения цели. В качестве инструментов мы рассматриваем помимо собственно правовых знаний навыки разрешения социальных проблем с помощью права.
Необходимо сразу оговориться, что знания, навыки и качества проявляются в совокупности. Можно сказать, что навыки базируются на знаниях и качествах специалиста. Владение только одним из этих компонентов не приведет к позитивному результату. Так, юрист, исходя из знания правовых норм, может прекрасно осознавать необходимость получения информации о юридических фактах, но отсутствие уважения к клиенту и желания оказать качественную профессиональную помощь может помешать ему установить контакт с клиентом и получить ответы на свои вопросы. Тактически грамотное ведение коллизионной защиты невозможно не только без знания процедуры и вероятных правовых последствий, но и без этичного отношение к коллегам. Кроме того, знание правил составления процессуального документа в сочетании с уважительным отношением к судье приведет к верному выбору стиля ходатайства.
Также важно отметить, что под знаниями как частью профессионализма мы понимаем знание не только права, но и социального контекста деятельности юриста. Петербургский адвокат В.Г. Захаров так рассуждает в своем интервью: Я столкнулся однажды с двадцатилетним следователем. И мой двадцатилетний подзащитный общался с ним на “ты”, что в каком-то смысле естественно, потому что они – двое мальчишек, но в то же время и немыслимо… Так вот спрашивается, как можно требовать нормальной работы от двадцатилетнего мальчика, который при всей его добросовестности ничего не знает? И в первую очередь не имеет ни малейшего представления о человеческой жизни, о мотивах людских поступков”. Это жесткое суждение отражает общую точку зрения, закрепленную в том числе законодательно: для занятия ряда наиболее ответственных должностей установлен возрастной ценз и наличие опыта профессиональной деятельности. А в условиях возрастающей конкуренции работодатели де-факто вводят аналогичные ограничения и для юристов, работающих в бизнесе.
Действительно, опыт – необходимая составляющая на пути к профессионализму. Но наивно представлять себе этот путь как игру в лото с последовательным “закрыванием” квадратиков, в которых расписаны знания, навыки и качества. Профессионал -это понятие динамическое. Только постоянное обновление знаний, постоянное развитие навыков, постоянная самооценка качеств и отношения к работе, внутренний контроль позволяют развивать и поддерживать профессионализм на уровне растущих требований общества, профессиональной корпорации, потребителей профессиональных услуг.
Кто же выдвигает профессиональные требования к юристам, формируя тем самым профессиограмму? Во-первых, это делает государство в форме законов, государственных образовательных стандартов, должностных инструкций и т.п. Во-вторых, это делают профессиональные корпорации в своих уставах и кодексах профессиональной этики. В-третьих, при формировании профессиограммы должны быть учтены оценки бывших и ожидания потенциальных клиентов”, мнение профессионалов, а также исторический и зарубежный опыт, рекомендации и требования международных документов.
Однако в данный момент нас интересуют прежде всего профессиональные качества и навыки, которым и посвящена эта книга.
Для ряда юридических специальностей (прокуроров, адвокатов, судей) квалификационные требования определяются законом. Однако закон, как правило, выдвигает такие требования, как наличие высшего юридического образования и определенный стаж работы. Перечень и содержание профессиональных навыков, необходимых именно данной специальности, в законе не раскрывается.
Требование высшего юридического образования по существу отсылает нас к Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальности “Юриспруденция” (ГОС) (утвержден 27 марта 2000 г. № 260 гум/сп).
Стандарт, в свою очередь, разделяет квалификационные требования (п. 1.3) и требования к профессиональной подготовленности юриста (п. 7.1), относя к последним умение “решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям, указанным в п. 1.3 настоящего государственного образовательного стандарта”.
В перечне квалификационных требований выделены профессиональные умения и навыки юриста. Что же должен уметь юрист?
- Толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
Перечисленные умения и навыки проявляются в той или иной степени в повседневной деятельности юриста в любой профессиональной сфере, на любой должности. Содержащиеся в названном выше стандарте требования к профессиональной подготовленности юриста не просто конкретизируют квалификационные требования. Они в определенной последовательности описывают средства, с помощью которых юрист реализует свои функции. Эту последовательность можно назвать технологической цепочкой действий, алгоритмом поведения юриста, включающим:
- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
- анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализ судебной и административной практики;
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление соответствующих юридических документов;
- обеспечение реализации актов применения права;
- обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.
Конечно, в приведенных перечнях наблюдается некоторое смешение целей, задач, функций, форм, элементов профессиональной деятельности юриста. Можно долго спорить о формулировках, выясняя, чем же умение “разрабатывать документы правового характера” (квалификационные требования) отличается от умения “составлять соответствующие юридические документы” (требования к профессиональной подготовленности) и т.д. Каждый администратор вуза, преподаватель, студент сможет интерпретировать положения стандарта по-своему. Если взглянуть на требования с точки зрения содержания учебных программ, можно заметить, что учебные программы направлены в основном на то, чтобы дать студентам знания в области законодательства, научить их толковать законы и другие нормативные акты и юридически правильно квалифицировать факты. На наш взгляд, требования к профессиональной подготовленности значительно опережают содержательную часть стандарта. Можно только подразумевать и надеяться, что среди преподавателей отдельных общепрофессиональных дисциплин или дисциплин специализации найдутся те, кто в рамках своих курсов будет обучать тому, как собирать фактическую информацию, анализировать реальные правовые отношения, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, обеспечивать реализацию актов применения права и т.д. Обучить навыкам решения таких задач можно, только ”окунув” обучаемого в реальный контекст. Составители стандарта, видимо, осознают эту проблему. Но, осознав, рискуют усугубить ее, четко противопоставив основной учебный процесс и практику. В пункте 6.5 стандарта “Требования к организации практики” записано: “Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков'”. Итак, приобрести и совершенствовать практические навыки предписывается в ходе практики. Эти навыки отделены от иных знаний, умений и навыков, которые уже получены на занятиях в вузовских аудиториях. Значит ли это, что лишь на практике студенты впервые столкнутся с необходимостью выполнять обязанности по должностному предназначению?
Очевидно, такая интерпретация все-таки не самая конструктивная. И кажущиеся недостатки в содержании стандарта представляется возможным обратить в достоинства. Для этого преподаватель должен в равной степени ориентироваться как на предусмотренное стандартом содержание соответствующей дисциплины, так и на квалификационные требования (п. 1.3) и требования к профессиональной подготовленности (п. 7.1). С учетом этих требований просто необходимым окажется включение в учебный план практических занятий, практических курсов, практикумов, целью которых будет приобретение практических навыков в сфере профессиональной деятельности, соответствующей данной дисциплине. Тогда мы не будем подчеркивать отличие практических навыков, приобретаемых на практике вне вуза, от “аудиторных”, “теоретических” навыков. Тогда студент будет отправляться на практику вне вуза как на “один из видов занятий” (п. 6.5 ГОС). а не как на “первый бал Наташи Ростовой”.
Требования к обязательному минимуму в содержании основной образовательной программы подготовки юриста (раздел 4 ГОС) указывают нам в темах многих дисциплин, в особенности прикладных, процессуальных, на те функции юриста, элементы технологической цепочки, которые не могут быть освоены лишь на теоретическом уровне, без развития практических навыков.Например, изучить многие темы дисциплины “Гражданский процесс” можно, только отрабатывая одновременно практические навыки, указанные в “Требованиях к профессиональной подготовленности”. Это можно проиллюстрировать следующей таблицей:

Характерно, что формулировки, более ориентированные на практику, на прикладной характер знаний, упоминание отдельных навыков обнаруживаются в сравнительно новых, еще не “теоретизированных” и “неюридических” частях стандарта, появление которых вызвано требованиями времени. Например, в содержание рекомендованной (к сожалению, пока необязательной) дисциплины “Русский язык и культура речи” включен ряд практически важных тем: Претила оформления документов;Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи; Основные приемы поиска материала и вибы вспомогательных материалов; Понятность, информативность и выразительность публичной речи; Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.
При отборе содержания такой обязательной дисциплины, как “Информатика и математика”, после перечисления прочих вопросов составители стандарта, словно вспомнив о цели изучения данного предмета, добавили два неброских слова –“компьютерный практикум”. Невозможно не обратить внимания на эту кажущуюся ошибку: почему наряду с темами, содержание которых описывается (например, “Аксиоматический метод” или “‘Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну'”), упомянута форма занятия – практикум? За этим прочитывается страстный призыв к преподавателю курса: просим вас, уважаемый профессор информатики, помимо изучения вероятностей и языков программирования не забудьте, пожалуйста, обучить будущих юристов работать на компьютере.
Жаль, что пока нет упоминания об аналогичных практикумах в описании таких дисциплин, как “Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)” или ‘”Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)”. Но не надо забывать, что стандарт устанавливает лишь обязательный минимум содержания основной образовательной программы подготовки юриста. Юрист действует в условиях нарастающей конкуренции (сегодня – из-за роста количества выпускников российских вузов, а в перспективе -еще и в результате прихода зарубежных юристов на “‘рынок юридических услуг”) и серьезного профессионального риска (профессиональные ошибки могут привести к потере имиджа, дохода, должности). Любой здравомыслящий студент чувствует ответственность за свое будущее и сам решает, стоит ли ограничиваться минимумом содержания, даже если все экзамены по этому минимуму сданы на отлично.
Помочь таким ответственным студентам стремятся организаторы программ клинического образования. Движение за внедрение клинического юридического образования может поставить перед собой разные цели: от выполнения “программы-минимум” -создания практического факультатива для ограниченного круга студентов до наиболее “экстремистской” – создания альтернативной системы обучения. Оптимальный вариант-это гармоничное включение как содержания, так и методов клинического образования в традиционный учебный процесс, постепенное “привыкание” к идеям и формам клинического образования и в результате – интенсификация всей работы факультета или института. Сама природа клиническою юридического образования – обучение через действие, обучение в сотрудничестве, обучение в социальном контексте – подсказывает направления такой интенсификации.
Зарубежный опыт обучения профессионализму, в том числе в юридических клиниках, чрезвычайно разнообразен. Британские преподаватели Хью Брэйн, Найджел Данкан и Ричард Граймз в книге “Клиническое юридическое образование: активное обучение в вашей школе права” подчеркивают, что каждое учебное заведение по-своему формулирует учебные задачи и изменяет обучение по мере приобретения опыта. В этой связи они предлагают следующий перечень знаний и навыков:
- навыки проведения правовых исследований, техники юридического письма, коммуникативные навыки;
- понимание принципов группового и межличностного взаимодействия;
- способность принимать и отстаивать этические решения;
- знания о доступе к правосудию, его ограничениях и возможности улучшений;
- понимание персональной ответственности и обязанностей юриста по отношению к клиентам;
- понимание взаимосвязи принципов права и юридических процедур;
- понимание взаимосвязи правовой доктрины и ожиданий клиента и предполагаемых результатов, определение слабых мест и возможностей для реформирования права и процесса;
- способность разрешать проблемы, определяя для этого стратегию;
- понимание связи права и других дисциплин, таких, как философия, экономика, психология.
В юридических клиниках особенно остро стоит вопрос о той части профессиограммы, которая касается практических навыков. Обучение навыкам составляет основное содержание учебной (“аудиторной”, имитационной) части клинической программы. Авторы клинического курса, существующего с 1976 г. в Школе права в Уорвике (Великобритания), выделяют отдельные группы навыков для обучения:
- Формулирование (конструирование) правовой проблемы: интервьюирование и сбор фактов; фактическое исследование и доказательства; юридическое письмо.
- Реализация правовых стратегий: переговоры; защита (выступление в интересах клиента); альтернативное разрешение споров.
Профессор Дэвид Барнхайзер (Школа права Кливлендского университета) на конференции в Великом Новгороде в мае 1999 г. выделял среди групп качеств и навыков для преподавания в программах клинического обучения следующие технические навыки юриста:
- интервьюирование клиента;
- “расследование'” (сбор фактов);
- консультирование клиента;
- переговоры/медиацию;
- правовые исследования;
- составление правовых документов;
- судебную адвокатуру;
- апелляционную адвокатуру.
Профессор А.Э. Жалинский выделяет выполняемые, как правило, по профессиональным методикам типовые элементы профессиональной деятельности юриста (или производства, рабочие комплексы, процедуры, операции, действия):
- правовую оценку представленных или встретившихся фактов;
- юридически программированные поиск, проверку и оценку фактической информации;
- поиск правовой информации;
- интеллектуальные процедуры применения права, т.е. оценку фактов, подбор правовых норм, получение юридического вывода;
- ведение в правовых рамках переговоров, выступления в судах и других органах, посредничество для разрешения конфликтов;
- подготовку и оформление правовых документов в виде решений, справок, предложений, разработку и обоснование позиций;
- контроль за процессом и результатами чьей-либо деятельности и др.
Уже из этих примеров видно, как по-разному можно и формулировать, и классифицировать навыки. Можно разделять их на: общеюридические (навыки исследования фактов, нахождения и толкования нормативных актов, составления юридических документов, устных выступлений по юридическим вопросам и др.), общекоммуникативные и организационные. Можно выделять навыки:
- изучения проблемы и выработки позиции;
- представления интересов клиента.
При этом следует учитывать, что любая классификация условна, а перечень практических навыков не является закрытым. Он сильно зависит от уровня требований и предыдущей подготовки. Есть масса навыков, которые, как мы предполагаем, должны быть освоены в процессе допрофессиональной подготовки. Всегда хочется верить в лучшее, в то, что студенты уже владеют навыками деловой переписки (как минимум просто грамотного письма) или работы в команде (как минимум просто способностью формулировать свои мысли и слышать чужие) и т.п. В противном случае есть риск пойти по пути наполнения профессиограммы юриста огромным количеством навыков, отличающих всякого нормально развитого и образованного человека от Маугли. Очевидно, следует исходить из действия принципа презумпции социальной грамотности людей, выбравших профессию юриста.
В то же время, возможно, стоит выделить некоторые общепрофессиональные практические навыки, составляющие основу социальной компетентности. Условно их можно объединить сначала в две группы:
- Организационные навыки:
- планирование своей деятельности, управление временем;
- организация рабочего места, работы офиса;
- делопроизводство;
- управление и контроль выполнения решении;
- планирование и поиск ресурсов;
- учет и отчетность;
- повышение квалификации (собственной и сотрудников);
- поддержание общественных связей и др.
- Коммуникативные навыки:
- навыки работы с оргтехникой, в первую очередь с персональным компьютером, в сети, с правовыми базами данных, Интернетом, листами рассылки и т.д.;
- планирование контактов;
- аргументация;
- постановка вопросов;
- публичные выступления;
- установление и поддержание контакта;
- использование различных языков и техник общения;
- навыки работы с “трудными” партнерами и др.
Используя концепцию работы с клиентом (физическим лицом, группой лиц, юридическим лицом, государством) как достаточно универсальную модель любой юридической деятельности, можно попытаться сгруппировать некоторые другие практические навыки по технологическому принципу:
- Навыки изучения проблемы и выработки позиции:
- интервьюирование (встреча, опрос, соглашение);
- правовые исследования (работа с источниками);
- анализ дела;
- выработка позиции по делу;
- консультирование;
- разработка стратегии и планирование;
- доказывание (собирание, проверка и оценка);
- составление, анализ документов и др.
- Навыки представления интересов клиента:
- обращение в органы государственного управления;
- работа с чиновниками;
- судебная адвокатура (обращение в суд, подготовка к судебному разбирательству, представление, исследование и оценка доказательств, в том числе допрос, выступление в прениях и т.д.);
- обжалование решений и др.
- Навыки использования альтернативных способов разрешения споров:
- переговоры;
- медиация и др.
Знания и навыки – это средства достижения цели, инструменты разрешения проблем. Любое орудие можно использовать для получения разных, часто противоположных результатов. Эффект применения инструмента зависит не только оттого, насколько профессионально он используется, но и от того, в чьих руках он находится, кто его использует. Реальный эффект использования профессиональных знаний и навыков также зависит от качеств юриста. Не стоит даже называть эти качества профессиональными, поскольку специфика работы юриста как помощника по разрешению социальных проблем, “творца справедливости” требует присутствия в его характере качеств порядочного, доброго, неравнодушного человека, что неплохо для представителя любой профессии. Но для юриста эти качества обязательны! Об этом стоит говорить особенно сегодня, когда все общественные проблемы и тенденции своеобразно влияют на профессиональную деятельность юриста. Приоритет государственной целесообразности над правами личности вызывает у многих юристов гражданскую пассивность, услужливость, исключительно “‘государственническую” трактовку норм. На фоне общей криминализации незазорным выглядит собственное неправомерное поведение, использование незаконных средств при осуществлении профессиональной деятельности, соучастие в коррупции. Индустриализация профессии, господство примитивного менеджмента делает работу механистичной, появляются представления об участниках конфликтов как об управляемых объектах. Профессиональный корпоративизм, который во все времена положительно отличал юристов, сегодня существует в виде многочисленных каст, основанных на замкнутости, поддержании чести мундира любой ценой, круговой поруке, что приводит к воспроизведению не самых лучших образцов поведения.
Проблема утраты юристами профессионализма не является специфической проблемой России или других государств, находящихся на переходном этапе. В отчете комитета по профессионализму секции юридического образования и допуска к практике Американской ассоциации юристов “Преподавание и обучение профессионализму” отмечается, что в публикациях по поводу снижения профессионализма фигурируют шесть основных тем:
- утрата понимания юридической практики как призвания, долга, миссии;
- экономические изменения, которые трансформируют юридическую практику из профессии в бизнес;
- ощущение излишней враждебности, противостояния, включая потерю уважительного отношения, вежливости, допускаемых существующими процессуальными нормами;
- ослабление традиционной роли юриста как независимого консультанта;
- озабоченность компетенцией юристов и их соответствием этическим кодексам;
- утрата чувства цели в работе юриста как результат изменения традиционной концепции юристов служить общественному благу в качестве посредников между интересами конфликтующих сторон в обществе.
В документах Международной комиссии юристов приводятся рекомендации, особенно актуальные для стран, находящихся на переходном этапе развития:
- В изменяющемся и взаимозависимом мире юристы должны играть ведущую роль в создании новых правовых концепций, институтов и механизмов, защищающих человека, помогающих ему преодолевать трудности и обеспечивающих удовлетворение интересов всех людей.
В настоящее время юрист не может ограничиваться рамками своей практической деятельности и отправления правосудия. Он не должен оставаться в стороне от важных изменений в экономической и социальной сферах; если он действительно юрист по призванию, он примет активное участие в общественных делах, содействуя экономическому развитию и укреплению в обществе социальной справедливости. Опыт и знания юриста должны использоваться на благо не только клиентов, но и всего общества.
- В каждой стране обязанностью юриста как в его практической деятельности, так и в общественной жизни является всемерное содействие тому, чтобы обеспечить существование ответственной законодательной власти, выбранной демократическим путем, независимой, получающей адекватное вознаграждение судебной власти и защиту гражданских прав и свобод человека.
- Юристы обязаны отказываться от сотрудничества с любой властью в осуществлении любых действий, нарушающих принципы правления права.
- Юристы не должны спокойно смотреть на распространение бедности, невежества и неравенства в обществе, а призваны играть ведущую роль в их искоренении, ибо, пока эти отрицательные общественные явления существуют, гражданские и политические права не могут сами по себе обеспечить достойного человека уровня жизни.
- Юристы обязаны принимать активное участие в правовой реформе. Если уровень общественного сознания невысок, особенно важно, чтобы именно юристы, поскольку они обладают специальными знаниями, пересмотрели действующее законодательство и представили в соответствующие органы программы реформ.
- Юристы должны прилагать усилия к распространению правовых знаний и внушать уважение к принципам права, способствовать пониманию всеми людьми их прав и законных интересов.
- Так как юристы призваны исполнять свои обязанности в соответствии с принципами права, им следует проявлять собственную инициативу и действовать через все возможные организации, включая, в частности, самоуправляющиеся ассоциации юристов. Такие ассоциации должны быть полностью свободны от вмешательства и контроля со стороны исполнительной власти.
- Юрист должен стремиться неуклонно следовать таким идеалам своей профессии, как неподкупность, компетентность, мужество и полная самоотдача”.
Профессиональное сообщество таких юристов, вероятно, смогло бы оказать влияние и на состояние юридического образования (в том числе и на формирование профессиограммы, квалификационных требований, правил допуска к профессиональной деятельности), избавить общество от многих заблуждений и предубеждений в отношении юристов.
Например, сегодня в России можно столкнуться с противопоставлением профессиональных юристов и правозащитников. Иногда такому противопоставлению дается примерно следующее объяснение: юристы в силу профессиональных обязанностей должны “стоять на страже закона”, т.е. выражать и проводить государственные интересы, а правозащитники находятся в естественной оппозиции государству и отчасти не разбираются в законодательстве, отчасти сознательно противодействуют его соблюдению. Однако рекомендации Международной комиссии юристов не только не проводят различия между юристом и правозащитником, но и прямо обязывают юриста быть правозащитником: “Юристы не должны ограничивать себя решением чисто правовых проблем. Для того чтобы внести свой вклад в развитие общества, юристы должны знать и понимать проблемы этого общества”. И далее: “Применительно к развивающимся обществам может быть установлено:
- Высокая моральная обязанность юриста, в какой бы сфере он ни был занят или имел влияние, — способствовать укреплению и развитию принципов правления права; юрист должен исполнять эту обязанность, даже если при этом он впадает в немилость к властям или испытывает на себе политическое давление. И в повседневной работе ему следует отдавать преимущество принципам правления права; обязанность юриста как гражданина – применять все правовые принципы на благо общества и соотечественников.
- Непременным условием правления права является обязанность юристов защищать гражданские, личные и социальные права всех лиц и готовность мужественно и решительно действовать в этих целях. Такая готовность предполагает обязанность принимать активное участие в оказании и разработке мер правовой помощи бедным и неимущим.
- Юрист должен:
- отстаивать отмену или изменение законов, которые устарели и перестали соответствовать нуждам и стремлениям людей;
- проводить экспертизу предлагаемых законодательных актов и правительственных постановлений, добиваясь их соответствия принципам правления права;
- способствовать тому, чтобы закон был понятен и легко доступен;
- содействовать формированию правовой системы, которая позволит развивающемуся обществу продвигаться вперед, а гражданам – добиваться уважения их человеческого достоинства.
- Юрист должен оказывать помощь правительству в его работе; он обязан настаивать на том, чтобы исполнительная власть уважала права личности и действовала в соответствии с законом, а также стремиться во всех необходимых случаях обеспечивать судебный пересмотр правительственных постановлений, затрагивающих права человека.
Возможно, эти рекомендации, разработанные в 60-х годах, до сих пор воспринимаются как нереалистичные, даже романтические, либо как имеющие отношение только к узкому элитному слою профессиональных юристов. Некоторые специалисты считают, что экономические перемены изменяют юридическую профессию независимо от воли и вне контроля юридического сообщества. Чтобы выполнить эти рекомендации, пришлось бы выдвинуть новые требования к юридическому образованию, изменить организацию юридической профессии, стиль, методы работы многих юридических служб. Но прежде всего пришлось бы изменить себя. Причем сделать это в полном соответствии с требованиями государственного стандарта, также описывающего качества человека, получающего государственный диплом с надписью: “специальность – юрист”. В квалификационной характеристике такого выпускника (п. 1.3 ГОС) записано, что юрист должен “обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности.
Следует еще раз подчеркнуть, что знания, навыки и качества специалиста формируются и проявляются только совместно. Все перечисленные качества и ценностные установки могут быть выявлены только в ходе деятельности – учебной или практической. Сегодня многие не видят смысла в воспитании нравственного сознания, ответственности, гуманизма, принципиальности и т.д. Существует иллюзия нескончаемости нынешнего “смутного времени”, в котором слово “порядочность” никак не ассоциируется с образом юриста. Конечно, право и юридическая деятельность не могут быть отделены от общественной культуры. Но право и юристы могут опережать, предвосхищать культурные перемены.
Перемены произойдут только при наличии тройного социального заказа – от общества, от государства и (самое главное!) от профессиональной корпорации юристов. Возможно, от нравственного выбора и поведения юристов во многом зависят принципы и ценности завтрашнего российского общества.
В начале учебного года первокурсники одного из юридических вузов при проведении социологического опроса граждан спрашивали: “Каким должен быть юрист?'” Самым удивительным был ответ троих молодых людей – слушателей высшего юридического учебного заведения: “Мы сами юристы, и нас это не волнует”.
Статьи по теме
- Современное состояние правозащитного движения в России
- Трансформация правозащитного движения в России
- Развитие правозащитного движения в России
- Становление правозащитного движения в России
- Зарождение правозащитного движения в России
- Подготовка юридического документа
- Приемы юридической техники
- Средства юридической техники
- Правила юридической техники
Полезные статьи


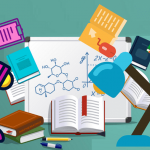




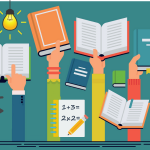

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

